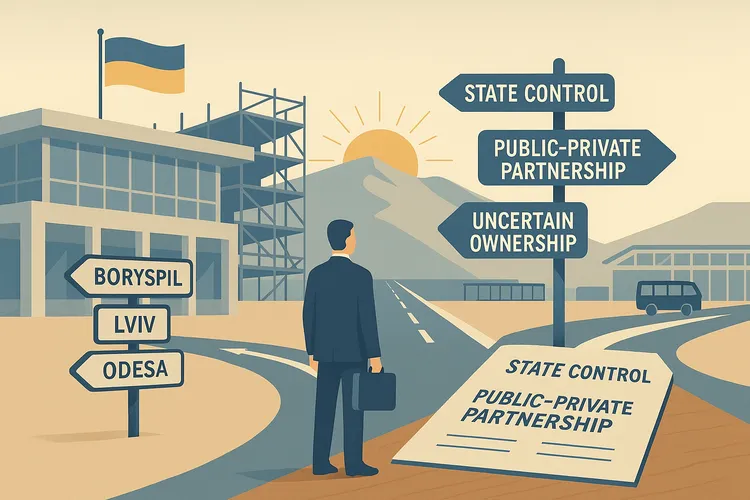Введение
Впервые в истории Украины гражданская авиация была полностью остановлена из-за полномасштабной войны. Однако остановка не означает бездействия: в тишине взлетно-посадочных полос уже сейчас принимаются решения, определяющие вид послевоенного авиарынка. В июне 2025 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация (IFC) представили Министерству развития общин и территорий Украины команду международных экспертов и план подготовки комплексного исследования моделей привлечения частного сектора к управлению и содержанию аэропортов в Украине. Ожидается, что результаты этого исследования будут представлены министерству, однако не широким массам, в августе 2025 года. Оно фокусируется на трех ключевых аэропортах:
-
- Бориспольский, крупнейший украинский аэропорт, находящийся в государственной собственности,
-
- имени Даниила Галицкого во Львове – втором государственном аэропорту, расположенном в Западной Украине и
-
- Одесском — объекте коммунальной собственности, в отношении которого до полномасштабной войны уже предпринимались попытки привлечения частного инвестора.
На первый взгляд, выбор этих трех аэропортов может казаться географически и юридически сбалансированным — два государственных и один коммунальный, один на востоке, один на западе, один на юге. Однако в основе, вероятно, лежит не только формальная логика, но и более глубокая стратегическая мотивация.
Борисполь до полномасштабной войны выполнял функцию национального авиационного хаба — главного узлового аэропорта страны, который объединял международные и внутренние рейсы, обеспечивал транзитный трафик и имел потенциал стать региональным хабом для Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Однако после трех лет закрытого неба, изменения логистических маршрутов, рисков безопасности, новых центров спроса на авиаперевозки (в частности на западе страны), эта модель очевидно нуждается в пересмотре. И с этой точки зрения, включение Львова выглядит вполне логично.
Выбор Одесского аэропорта как третьего объекта исследования может иметь еще одну скрытую мотивацию. Как отмечалось в одной из наших аналитических публикаций, аэропорт «Борисполь» после войны при сохранении действующих санкций и запретов разных стран и рекомендаций Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) относительно полетов над частью территории РФ испытывает существенные вызовы в части формирования эффективной маршрутной сети. По географическим причинам и соображениям безопасности основная масса прямых рейсов, скорее всего, будет сосредоточена в западном и южном направлениях. В такой ситуации потенциальное переформатирование Одесского аэропорта в региональный хаб или транзитный узел выглядит одним из резервных сценариев, которые целесообразно изучить заранее.
Такой взгляд позволяет стратегически мыслить о многополюсной модели развития аэропортовой сети в Украине, а не только о восстановлении прежнего статуса-кво.
⮚ TL;DR: Исследование ЕБРР и IFC касается не только двух государственных аэропортов, но и Одесского коммунального. Это, вероятно, связано с переосмыслением хабовой модели: Борисполь может потерять свою транзитную роль, поэтому изучаются альтернативы для региональной авиационной устойчивости. В условиях закрытого неба уже сегодня нужно готовить решения по послевоенному восстановлению авиационной инфраструктуры.
Бориспольский аэропорт: амбициозные государственные планы без участия частного капитала
Углубленный анализ ситуации с аэропортом “Борисполь” демонстрирует системный контраст между активной государственной парадигмой развития инфраструктуры и открытостью к частному капиталу, которую мог бы предусматривать современный стратегический подход.
Взлетно-посадочные полосы Международного аэропорта «Борисполь» не вызывают сомнений в своей технической готовности как в довоенный период, так и на протяжении всего времени войны. Это результат масштабных инфраструктурных обновлений, проделанных еще в предыдущие десятилетия. Новая взлетно-посадочная полоса №2 была сдана в эксплуатацию в 2001 году и в то время отвечала всем стандартам приема тяжелых дальнемагистральных воздушных судов. Еще одна, исторически первая полоса №1, прошла полную реконструкцию в период 2011-2013 годов, в результате чего ее погрузочная способность и качество покрытия были приведены к современным требованиям.
Пока ни одна из этих полос не нуждается в реконструкции. В тендерных объявлениях 2024-2025 годов зафиксированы только отдельные закупки, связанные с текущим ремонтом рулижных дорожек и локальными участками инженерной сети. Это подтверждает, что вся авиационная инфраструктура, необходимая для обеспечения безопасного приема и отправки воздушных судов, остается функционально подходящей. Она не только сохранила свою эксплуатационную ценность, но и может быть быстро адаптирована к условиям послевоенного восстановления авиасообщения.
Другими словами, на уровне взлетно-посадочных полос «Борисполь» сегодня не является инвестиционно-дефицитным объектом, а значит, государство не нуждается в привлечении частного капитала для обеспечения модернизации или нового строительства в этой части аэропортового комплекса.
Несмотря на длительную войну и закрытое небо, аэропорт Борисполь не только поддерживает свою инфраструктуру в надлежащем состоянии, но и реализует масштабные проекты в рамках Концепции развития до 2045 года, утвержденной еще в 2019-м. Эта Концепция предусматривает инвестиции более чем в 3,4 млрд евро, из которых значительная часть — средства государства и самого аэропорта.
По состоянию на 2024–2025 годы аэропорт проводит реконструкцию и расширение терминала D с ожидаемой перевозкой в 10 млн пассажиров в 2028 году, хотя расширение терминала было запланировано в связи с достижением перевозки 27,7 млн пассажиров к 2030 году и 53,9 млн к 2045 году. аэропорта. Текущая реконструкция идет вразрез с реалиями закрытого неба, ведь пассажиропоток в 10 млн. существенно не дотягивает до той планки (27,7 млн.), ради которой проектировались расширения. Соответствует ли такая стратегия принципам эффективного бюджетного планирования — вопрос, который остается открытым.
В 2024–2025 годах деятельность Международного аэропорта «Борисполь» приобрела особую динамику и вес, который выходит далеко за рамки простого сохранения активов в период закрытого неба. Несмотря на полную остановку пассажирских перевозок, аэропорт не только не сократил свою институциональную активность, а, наоборот, продемонстрировал системное стремление к модернизации, удержанию критической инфраструктуры и сохранению кадров, составляющих основу его конкурентоспособности после открытия воздушного пространства.
В последние полтора года руководство Борисполя активно работает в трех взаимосвязанных направлениях. Во-первых, речь идет о демонстративном сохранении инфраструктурной способности, в частности, терминального комплекса, взлетно-посадочных полос, инженерных систем, авиационной техники. Аэропорт регулярно принимает международные делегации, осуществляющие инспекции объекта для оценки его готовности к возобновлению полетов — в частности, представителей Японского и корейского агентств международного сотрудничества, Евроконтроля, французского правительства и других. Все эти партнеры дают высокую оценку степени сохранности объекта, что является значительным имиджевым активом для страны.
Во-вторых, наблюдается серьезное инвестирование в человеческий капитал: обучение, сертификацию, переподготовку персонала. По данным самого аэропорта, только в 2024 году более 2700 работников авиационной отрасли прошли различные формы подготовки. Активно функционируют обучающие платформы ICAO, сертификационные программы CASRA, проводится ежегодное тестирование операторов авиационной безопасности. Это формирует тот кадровый резерв, который позволит восстановить полноценную работу без продолжительного лага после завершения военных действий.
Третьим, и не менее показательным направлением, является активная работа над реализацией инвестиционных проектов, предусмотренных частью Концепции развития аэропорта до 2045 года. Примечательно, что во всех этих проектах отсутствует риторика относительно концессии, корпоратизации или привлечения частного оператора. Напротив, наблюдается стремление сохранить государственный контроль, хотя с открытостью к точечному партнерству, например, с японскими, корейскими, французскими или европейскими компаниями в рамках реализации конкретных технологических решений. Это дает основания говорить не о полном отказе от частного капитала, а скорее о преимуществе модели, где государство выступает активным заказчиком, координатором и реципиентом инвестиций, сохраняя полный операционный контроль.
В проекте Стратегии развития сферы гражданской авиации и использования воздушного пространства на период до 2030 г. предусматривалась возможность корпоратизации аэропорта «Борисполь». В случае ее реализации речь шла бы о трансформации государственного предприятия в акционерное общество, где государство владеет 100% акций, но получает инструменты для привлечения инвестиций, заключения коммерческих договоров и повышения гибкости управления, включая более прозрачную корпоративную структуру. Трансформация государственного предприятия в акционерное общество не означает приватизацию, но создает институциональную основу для потенциального привлечения частного капитала — как стратегического, так и портфельного. Впрочем, будет ли такой шаг покажет время.
Таким образом, деятельность Борисполя за последние 1,5 года нельзя трактовать как консервацию или ожидание. Это активная фаза подготовки к новой фазе развития – с четкой ставкой на государственный протекционизм, сохранение кадрового ядра и развитие институциональной способности. В то же время, это также вызов для потенциальных моделей частного управления — насколько они смогут интегрироваться в уже имеющуюся структуру с минимальным сопротивлением системы.
Продолжение реализации «довоенной» Концепции развития на миллиарды евро — в условиях войны, закрытого неба, сокращения населения и непонятных перспектив пассажиропотока — сомнительно, учитывая базовые принципы рационального бюджетного планирования. В то же время, в Национальной транспортной стратегии до 2030 года прямо указано на необходимость обновления стратегических документов, принятых к полномасштабному вторжению.
Отсутствие пересмотра концепции развития «Борисполя» в этом контексте выглядит как игнорирование системной рекомендации государственной политики.
⮚ TL;DR: Аэропорт “Борисполь” в 2024–2025 годах демонстрирует пример активной государственной модели развития с акцентом на модернизацию, сохранение инфраструктуры и кадров. В то же время, отсутствие пересмотра довоенной стратегии в условиях войны и закрытого неба ставит под сомнение эффективность бюджетного планирования и усложняет возможность будущего привлечения частного капитала.
Аэропорт Львов: государственная собственность без стратегии, но с фрагментарными государственными инвестициями
В отличие от аэропорта «Борисполь», владеющего утвержденной долгосрочной стратегией развития до 2045 года, Львовский аэропорт функционирует без актуального среднесрочного стратегического плана. Хотя в 2018 году Министерством инфраструктуры была утверждена Политика собственности государственного предприятия «Международный аэропорт «Львов» имени Даниила Галицкого» (Приказ №642), этот документ фактически не вышел за пределы общих деклараций. В нем закреплен принцип “исключительности государственной собственности” без конкретных механизмов инвестиционного развития или сценариев привлечения частного капитала. Несмотря на военное положение и изменения в демографии региона, Политика собственности не пересматривалась ни в части функционирования в особый период, ни в аспекте институциональной трансформации предприятия.
Состояние основной инфраструктуры аэропорта, в частности взлетно-посадочной полосы, не дает оснований для масштабных обновлений из-за механизма публично-частного партнерства. Единая ЗПС аэропорта была полностью реконструирована в 2011 году в рамках подготовки к Евро-2012. На сегодняшний день она остается в удовлетворительном техническом состоянии, что подтверждается отсутствием тендеров на капитальные работы в 2024–2025 годах. Нет также признаков износа рулижных дорожек и перрона, что потребовало бы участия частного капитала. Все это делает привлечение ППП в традиционной форме – например, для реконструкции ЗПС – маловероятным, по крайней мере, в кратко- и среднесрочной перспективе.
Несмотря на отсутствие целостной стратегии развития, государство осуществляет точечные интервенции, что скорее является ответом на вызовы безопасности, чем элементом долгосрочного видения. По данным правительственной системы DREAM, в 2024–2025 годах уже запущена или запланирована реализация таких проектов:
- Модернизация радиомаячных систем посадки (ILS — Instrument Landing System), свидетельствующая о подготовке к обеспечению большей регулярности и безопасности полетов в неблагоприятных погодных условиях.
- Усиление материально-технической базы авиационной безопасности и гражданской защиты, что может быть ответом на рост рисков во время военного положения.
- Строительство грузового терминала (запланировано на период с июня 2025 по декабрь 2027 года). Этот проект потенциально свидетельствует о попытке диверсификации бизнес-модели аэропорта и подготовке к росту спроса на грузовые перевозки в период послевоенного восстановления.
Однако эти интервенции не интегрированы ни в одну из обнародованных концепций развития аэропорта как инфраструктурного хаба региона. транзитную логистику, импорт-экспорт со странами ЕС, региональную сортировку грузов или работу с глобальными операторами типа DHL, UPS, FedEx.
Это контрастирует с подходом, наблюдаемым в «Борисполе», где корпоративная стратегия объединяет государственные инвестиции с проектами, ориентированными на стратегических партнеров и потенциальных концессионеров.
В «Списке ожиданий собственника на 2026 год», утвержденном Министерством развития общин, акцент сделан на поддержке объекта в эксплуатационном состоянии, обеспечении безопасности полетов и сохранении инфраструктуры. (KPI), что снижает ожидаемую рентабельность таких инвестиций.
Уникальное расположение Львовского аэропорта — всего в 70 км от границы с ЕС делает его естественным претендентом на статус пилотного хаба с привлечением частного капитала. Но для этого необходимо изменить подход к управлению активом: от объекта содержания — к инструменту развития.
Критически важной проблемой, которая угрожает возможностям будущего развития аэропорта, является ситуация с расширением границ села Сокольники. ограничение эксплуатации аэропорта (как иллюстрацию будущего можно вспомнить аэропорт Жуляны в Киеве) Несмотря на предоставленные предприятием замечания, проектные решения генерального плана не были согласованы с эксплуатантом аэродрома.
Такие недостаточно скоординированные с аэропортовыми потребностями решения могут не только повредить репутации государства как партнера, придерживающегося правового порядка в сфере авиации, но и сделать невозможным инвестиции — как государственные, так и частные — в модернизацию или расширение аэропорта. нормальную работу.
Одним из возможных направлений институциональной трансформации могла бы стать корпоратизация аэропорта, которая предусматривает превращение ГП в хозяйственное общество со 100% участием государства или концессионных операторов. Однако пока нет признаков того, что такая траектория даже рассматривается в случае «Львова».
Слабость институциональной структуры Львовского аэропорта также проявляется в отсутствии органов корпоративного управления — например, наблюдательного совета или совета директоров, что делает невозможным системный стратегический контроль за деятельностью руководства предприятия.
Один из самых убедительных аргументов в пользу перспектив Львовского аэропорта в послевоенный период — это его динамика роста в 2015–2019 годах. Ежегодный рост пассажиропотока достигал от 36% до 48%.
После 2022 года Львов стал гуманитарной, административной и культурной столицей западной Украины Город принял сотни тысяч переселенцев, из которых значительная часть уже интегрировалась. Это означает рост численности платежеспособного населения, формирование новых деловых и гуманитарных маршрутов 35–40% ежегодно в первые 3–5 лет после открытия неба выглядят обоснованными.
Впрочем, такие ожидания не автоматические. Без изменения модели управления, привлечения партнеров и инвестиций, а также четкой маркетинговой стратегии Львов рискует потерять возможность утвердиться как западный авиахаб Украины.
Учитывая удовлетворительное техническое состояние инфраструктуры аэропорта, классические ППП-модели типа BOT (Build-Operate-Transfer) пока кажутся маловероятными. В то же время существуют альтернативные сценарии привлечения частного сектора, в частности:
-
- долгосрочные операционные договоры по коммерческой эксплуатации терминалов или вновь созданных объектов (например, грузового терминала),
-
- общие инвестиции в развитие логистических услуг через корпоративные партнерства с операторами или инфраструктурными фондами,
-
- франшизные модели обслуживания наземной инфраструктуры, не требующие передачи права собственности.
Все эти модели могут быть реализованы в пределах текущей законодательной базы без изменения правового статуса аэропорта как государственного предприятия. Однако их внедрение требует четкого разделения ролей между государством как собственником, управленческой командой предприятия и частным партнером. Именно поэтому целесообразно предусмотреть сочетание институциональной трансформации в форме корпоратизации с параллельной подготовкой типовых сценариев ППП для отдельных направлений деятельности — терминальных, логистических, коммерческих.
⮚ TL;DR: Львовский аэропорт имеет высокий потенциал роста после войны, однако функционирует без стратегии, без органов корпоративного управления и без привязки государственных инвестиций к бизнес-показателям. Отсутствие институциональной трансформации и открытости частному капиталу ставит под угрозу его конкурентоспособность в послевоенный период. Учитывая ограниченную привлекательность классических ППП для уже восстановленной инфраструктуры, именно корпоратизация с гибкой моделью привлечения частного партнера (управленческая концессия, аренда или mixed equity) может служить первоначальным шагом трансформации.
Аэропорт «Одесса»: инфраструктура без стратегии
Международный аэропорт Одесса является третьим по величине в Украине и играет важную роль в транспортной сети портового региона и юга страны. К 2022 году он демонстрировал стабильный рост в течение 2017-2019 годов и даже в постководный год перевез 1,4 млн пассажиров.
В 2017 году был построен новый терминал, из которого совершались чартерные и международные регулярные рейсы. В 2020 г. государством начата подготовка проектной документации по реконструкции всего аэродромного комплекса, включая строительство новой ЗПС, которая была введена в эксплуатацию в середине 2021 года. Объем государственных инвестиций в это составил около 2,8 млрд. грн. Новая ЗПС позволяет аэропорту принимать широкофюзеляжные самолеты и работать в “всепогодном” режиме. Однако в условиях войны она так и не смогла стать инструментом грузовой логистики или гуманитарной авиации. Инфраструктура стоит без использования, не давая никакого эффекта на национальном уровне.
История собственности этого аэропорта — отдельная запутанная траектория, заслуживающая пристального внимания. В 2011 году для реконструкции аэропорта было создано ООО «Международный аэропорт Одесса», в уставный фонд которого Одесскому городскому совету были переданы основные средства терминального комплекса оценены в 25% в этом предприятии, в то время как 75% получило ООО «Одесса аэропорт Девелопмент», бенефициарами которого были бизнесмены Борис Кауфман и Алекс. Именно эта структура собственности стала механизмом, открывшим путь к десятилетию политико-коррупционного контроля, завершившейся громким уголовным производством и утверждением 12 июня 2025 г. Высшим антикоррупционным судом соглашения о признании виновности семи человек, включая указанных, и возвращении в собственность горсовета переданного терминального комплекса. Впрочем, даже после громкого судебного решения структура собственности ООО «Международный аэропорт Одесса» не претерпела изменений: контрольная доля остается в руках бизнесменов, связанных с этим криминальным кейсом.
В таком юридически неоднозначном положении запуск любого инвестиционного или партнерского проекта фактически заблокирован. Во-первых, из-за токсичности действующей структуры собственности: ни один профессиональный инвестор, логистический оператор или международная авиакомпания не будет вести переговоры с субъектом, являющимся фигурантом резонансного уголовного дела. Во-вторых, из-за отсутствия публичной позиции городского совета как формального совладельца, никто не может оценить риски изменения контроля или потери актива в результате судебных решений. В-третьих, за неимением четкой формы правового владения СПС и наземной инфраструктуры между ООО и муниципалитетом, что усложняет структуру любого соглашения о ППП.
Можно было бы рассмотреть по крайней мере несколько сценариев институционального перезапуска аэропорта. Например, корпоратизация с последующей концессией — по аналогии с хорватским аэропортом Загреб. Другим примером может стать литовская Baltic Ground Services, которая стала партнером муниципалитетов и региональных аэропортов в Литве, предоставляя услуги обслуживания без перехода в собственность, что может быть модельно релевантным для второстепенных украинских аэропортов.
Однако для любого сценария нужно осуществить очищение собственности, юридическое структурирование объекта, пересмотр региональной авиационной политики и формулировку видения Одессы как южного хаба. Без таких базовых шагов аэропорт будет оставаться инвестиционно мертвым активом при всей своей технической мощи.
При всех современных вызовах аэропорт мог бы стать важным звеном в системе гуманитарного и восстановительного транспорта страны. Одесса — единственный крупный город с выходом к морю, имеющий действующую взлетно-посадочную полосу нового поколения, а также сформированный трафик со стороны международных авиаперевозчиков до 2022 года (Turkish Airlines, LOT, Austrian Airlines, Wizz Air и др.). Однако по состоянию на 2025 год не существует ни одного стратегического документа, описывающего роль аэропорта в послевоенном восстановлении, логистике, секторе безопасности или трансграничной торговле.
Даже базовые индикаторы – такие как готовность к грузовым перевозкам, наличие договоров с логистическими операторами, сохранность персонала, коммуникация с авиаперевозчиками – остаются в тени. Ни городской совет, ни министерство развития не обнародуют целостную картину. Это контрастирует с общеевропейской тенденцией, где перезапуск аэропортов после конфликтов, как правило, начинается с институционального ребрендинга: от корпоратизации актива до заключения рамочных соглашений с логистическими операторами и авиаперевозчиками. В условиях ограниченного ресурса на послевоенное восстановление это означает, что Одесса может потерять шанс на превращение в транспортный хаб Юга. Еще опаснее то, что Одесса сталкивается с дефицитом доверия — как со стороны государственных структур, так и со стороны потенциальных инвесторов, ожидающих четких сигналов относительно дальнейшего институционального курса и гарантий правовой защиты капитала.
С коммерческой точки зрения интерес к аэропорту остается высоким. Компания Ryanair неоднократно публично заявляла о намерениях значительного расширения маршрутной сети в Украине после войны, в том числе и в Одессе, при восстановлении полосы и внедрении гибкой тарифной политики. Одесса также остается важным элементом цепей мультимодальных перевозок — в первую очередь в связи с функционированием морского порта, что делает возможным развитие концепции «аэропорт-порт» как единого логистического узла. По подобным моделям работают, в частности, Гданьск и Роттердам. Однако без институциональной рамки и реальных стимулов для авиакомпаний этот потенциал не будет реализован.
Следует также учитывать, что в послевоенный период конкуренция за пассажиропоток в Украине будет очень жесткой: речь идет не только о внутреннем перераспределении между Киевом, Львовом и Одессой, но и о внешней конкуренции с польскими хабами. Аэропорт «Одесса» имеет очевидные преимущества — доступ к морю, рекреационный и бизнес потенциал, развитую туристическую инфраструктуру, однако без структурированного видения его места в национальной авиационной карте Украины эти преимущества останутся декларациями.
Одесса также нуждается в решении ряда технических и процедурных вопросов: от модернизации навигационного оборудования до создания зон безопасности в соответствии со стандартами ICAO и EASA. Но первоочередной задачей должна стать именно формулировка институциональной модели: будет ли аэропорт оставаться коммунальным предприятием с дотационной логикой, или трансформируется в стратегический хаб с привлечением частного оператора, концессионера или фонда инфраструктурных инвестиций. Ответа на эти вопросы пока не прозвучало. Так что аэропорт «Одесса» стоит на перепутье. Его техническая инфраструктура способна выдержать масштабный послевоенный рост, но при отсутствии четкого стратегического видения, политической воли к институциональной трансформации и готовности к сотрудничеству с частным капиталом этот потенциал может быть утрачен. В отличие от Львова, где государство хотя бы осуществляет точечные инвестиции, или Борисполя, где стратегия расписана до 2045 года, аэропорт остается инфраструктурным активом с высоким потенциалом, однако без плана его реализации или интеграции в национальную стратегию авиационного восстановления. В послевоенном авиационном восстановлении страны это слишком большая роскошь.
⮚ TL;DR: Одесса имеет все предпосылки для восстановления статуса регионального хаба после войны — современную инфраструктуру, коммерческий интерес авиакомпаний и логистический потенциал. Однако пока нет ни дорожной карты, ни модели инвестиционного привлечения, превращающего аэропорт в пассивный актив без конкретных перспектив.
Ключевые ожидания от исследования IFC/ЕБРР
На основании сравнительного анализа состояния аэропортов Борисполь, Львов и Одесса можно выделить ключевые ожидания от предстоящего исследования IFC/ЕБРР, которое, скорее всего, будет иметь стратегически взвешенный и одновременно прагматичный подход. Эти учреждения обычно не настаивают на полной приватизации, зато предлагая гибкие формы участия частного сектора — концессии, сервисные контракты или операционные соглашения — с учетом политической воли, уровня управленческой способности и юридического статуса инфраструктурного актива.
Создается впечатление, что аэропорт «Борисполь» — по крайней мере, на этом этапе — не рассматривается государством как объект для передачи под управление или в собственность частного оператора. Правительство демонстрирует четкую политику сохранения контроля, постоянно финансируя проекты достройки и модернизации. Борисполь рассматривается как витрина государственной способности – «ворота страны», которые должны быть открыты первыми в случае снятия запрета на полеты. В этом смысле ожидания от исследования IFC/ЕБРР предположительно будут заключаться не в предложениях изменений модели управления, а в усилении эффективности, антикоррупционных предохранителях и потенциальных государственно-частных партнерствах во вспомогательной инфраструктуре (грузовая логистика, паркинги, кейтеринг).
Совершенно другой подход может быть предложен для аэропорта «Львов». Государство инвестирует в него ограниченно и не демонстрирует признаков стратегической привязанности. В то же время у Львова есть позитивная история роста пассажиропотока, современная инфраструктура и привлекательное географическое расположение — все это делает его естественным кандидатом на внедрение экспериментальной модели с привлечением частного оператора. В контексте IFC это может быть операционная концессия с поэтапными обязательствами, подкрепленными системой мониторинга результатов. ЕБРР, вероятно, сфокусируется на формировании институциональной рамки и повышении банковской привлекательности инвестиций во львовский аэропорт. Львов, скорее всего, будет предложен как демонстрационный пилот.
Самым большим вызовом станет Одесса. Юридическая конструкция, объединяющая коммунальное предприятие и частное ООО с тем же названием, уже более десяти лет порождает системную неопределенность. Даже после решения ВАКС от 12 июня 2025 года, согласно которому часть имущества была возвращена в собственность общины, фактический контроль за эксплуатационной инфраструктурой остается в руках бизнесменов, причастных к уголовному производству. Очевидно, что без предварительного урегулирования статуса имущества и пересмотра структуры владения, какая-либо модель частного партнерства будет обречена. Именно здесь ожидается от IFC и ЕБРР наибольшая методологическая гибкость: речь не о внедрении концессии или иного инструмента, а о создании институциональной предпосылки для такого сценария в будущем. Вероятно, именно кейс Одессы продемонстрирует, насколько IFC готова совмещать техническую экспертизу с политическими реалиями, а ЕБРР с институциональным давлением на муниципалитет.
Таким образом, ожидания от исследования IFC/ЕБРР не могут быть одинаковыми для каждого аэропорта. В Борисполе это оптимизация в рамках государственной модели. Во Львове подготовка к пилотной реализации. В Одессе выяснение, есть ли вообще база для институциональной модернизации. Такой подход соответствует международной практике: флагманский аэропорт оставляют в государстве, эксперименты проводятся во второстепенных узлах, а проблемные — сначала приводят к юридической кондиции. Если Украина действительно получит грантовое или проектное финансирование в рамках этого исследования, оно должно быть использовано именно с учетом этих нюансов.
⮚ TL;DR: От исследования IFC/ЕБРР ожидается гибкий подход к каждому из аэропортов. Для Борисполя — сохранение государственного контроля, для Львова — пилотная модель частного управления, для Одессы — прежде всего, урегулирование структуры собственности. Это отвечает международной логике работы с инфраструктурой в постконфликтных странах.
Аэропорт без неба: как активизировать инфраструктуру уже сейчас
Украинское небо остается закрытым для гражданской авиации с 24 февраля 2022 года, и, несмотря на единичные оптимистичные заявления, никаких конкретных сроков его открытия пока не существует. Все аэропорты страны находятся в режиме ожидания: без регулярного пассажирского трафика, без доходов, однако с постоянной потребностью в обеспечении физической защиты инфраструктуры, содержании персонала, охране стратегических объектов и выполнении минимальных ремонтно-эксплуатационных работ. Ввиду этого очевидно, что задача состоит не только в сохранении технического потенциала, но и в поддержании функционального смысла аэропорта как логистического узла — даже при отсутствии авиасообщения.
Именно в этой точке возникает пространство для инновационного решения, которое, с одной стороны, соответствует логике международных институций (IFC, ЕБРР), поддерживающих поэтапное вовлечение частного сектора в восстановление, а с другой — позволяет обеспечить немедленную пользу пассажирам, операторам и государству. Речь идет о концепции условной «аэропортовой ветви» — транспортного маршрута, интегрирующего украинские аэропорты с действующими аэропортами за границей. Эта модель могла бы работать в виде специализированных автобусных маршрутов с четким аэропортовым сервисом: например, из Львова в Жешув, из Ужгорода в Кошицы, из Черновцов в Ясс, из Одессы в Кишинев. Пассажир, приобретя авиабилет с вылетом из иностранного хаба, одновременно бронирует «аэропортовый автобус – фактически таможенно-контролируемый трансфер» из украинского города в иностранный аэропорт. Перед посадкой в автобус он проходит таможенный и паспортный контроль в помещении украинского аэропорта, после чего автобус международного трансфера, не останавливаясь и не выходя из пограничной зоны, пересекает границу и направляется непосредственно в аэропорт отправления. Контроль осуществляется не на пункте пропуска на границе, а в пределах аэропорта, как это уже реализовано во многих трансграничных проектах в Европе, где существуют реальные модели интеграции транспорта с проведением пограничного или таможенного контроля к границе, а не после приезда в страну. Например:
- Аэропорт Дублина/Шэннона (Ирландия): в обоих пунктах реализована система US Preclearance, позволяющая рейсам в США проходить иммиграционный и таможенный контроль перед взлетом, в Ирландии, а не по прибытии в США. Пассажиры после прохождения этого контроля попадают в США в качестве внутренних, без дополнительной проверки.
- EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg – это общий пограничный хаб для Франции, Швейцарии и Германии. Он имеет специальную беспошлинную дорогу, позволяющую пассажирам из Базеля пересекать границу, не проходя таможню Франции, благодаря юридически согласованной зоне без таможенных ограничений.
- В Брюсселе-Шарлеруа компания Flibco успешно развивает модель Door2Gate — трансфер на автобусе из центра Европы прямо к терминалу с предварительным контролем, что значительно облегчает стыковые маршруты и снижает трансферное время.
Эти примеры показывают, что:
- Возможно предварительное оформление паспортно-миграционных процедур еще до пересечения государственной границы.
- Такой подход действует законно в рамках международных двусторонних или региональных соглашений.
- Транспорт не обязательно должен быть воздушным: автобусы работают для стыков между аэропортами, из которых происходит дальний перелет.
Отсюда идея украинской модели: создать аэропортовые автобусные маршруты, где:
- пассажир проходит таможенный и пограничный контроль на территории украинского аэропорта;
- автобус оказывается в приграничной зоне (например, Польши или Румынии) без задержек на контрольно-пропускном пункте;
- таможенник/пограничник сопровождает рейс как гарант безопасности и контроля.
Это – наследственная логика наряду с американской One Stop Security программой, позволяющей пройти TSA-контроль перед отлетом – без лишних процедур на стыковом узле.
В украинских условиях такая модель могла бы адаптироваться в рамках партнерства с соседними странами, с минимальными начальными инвестициями, но с большим эффектом. По сути, это проверенная международная практика предварительного контроля и трансфера, которую можно перенести на автобусно-авиационный “мост” между Украиной и ЕС.
Этот подход создает новое качество сервиса: пассажир получает гарантию прибытия на самолет без опозданий, без остановок на границе, без риска потерять рейс из-за очередей на границе. В условиях, когда обычные автобусные рейсы стоят по 6–8 часов на границе, а система компенсаций за потерянные стыковки отсутствует, такая модель становится очень привлекательной. Аэропорты вместо простоя и депрессии получают возможность активизировать часть своей инфраструктуры: обслуживание пассажиров, работу пограничной и таможенной службы, частичное восстановление наземного персонала, услуги кейтеринга, охраны, клиринга, парковка. Частные операторы автобусных перевозок получают стимул к легализации и кооперации с институционной инфраструктурой. Все это создает предпосылки для гибкого публично-частного партнерства еще до открытия неба в сфере, где риски ниже, а доверие выше.
В политическом смысле это решение позволяет государству показать пассажирам, что они не брошены на произвол судьбы: усилия направлены не только на будущее авиации после победы, но и на облегчение мобильности уже сейчас. Украинские авиакомпании, вынужденные базироваться за границей, также выиграли бы от такого решения: упрощенный доступ пассажиров к рейсам, предсказуемость логистики, расширение потенциальной базы бронирования. В конце концов, эта модель является отличным тренажером национальной координации: она нуждается в сотрудничестве пограничников, таможенников, МИД, местных органов власти, международных партнеров, а значит, формирует новое качество институционального взаимодействия, которое потом можно перенести на полноценные модели концессий, совместного управления или логистических хабов.
В международном контексте эта схема демонстрирует именно тот тип адаптивности, на которую делают ставку IFC и ЕБРР в послеконфликтных странах: постепенное наращивание операционной возможности, пилотные решения с высокой репликативностью, поэтапная активизация инфраструктуры без изменения структуры собственности. Реализация «таможенно-контролируемого трансфера» не нуждается ни в реформировании действующих правовых норм, ни в многомиллиардных инвестициях. Это проект, который можно начать завтра при наличии политической воли и скоординированного действия.
В конце концов аэропорт — это не только взлетно-посадочная полоса. Это точка входа в государство, узел доверия и сервиса, место, где формируются первые впечатления о стране. Если мы сможем сделать эту точку живой даже без полетов, открытие неба станет не началом, а продолжением системной логики. А это уже есть настоящая авиационная стратегия.
⮚ TL;DR: Несмотря на закрытое небо, украинские аэропорты могут выполнять функцию логистических хабов уже сейчас, через реализацию специализированных автобусных маршрутов в иностранные аэропорты. Это спасает пассажиров от хаоса, оживляет инфраструктуру, легализует перевозчиков и отвечает логике действий международных институтов. Самое главное – это решение можно запускать без ожидания победы или миллиардных инвестиций.
Материал подготовила Анна Цират, доктор юридических наук, партнер, специалист по международной торговле и вопросам общей авиации